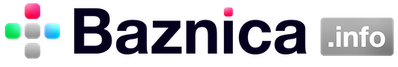От изобретения печатного станка до появления интернета — у Церкви довольно неплохая репутация в умении использовать новые технологии для продвижения своей миссии.
Однако за последние пять десятилетий было сделано больше технологических шагов вперёд, чем за предыдущие пять столетий. По мере того как скорость инноваций продолжает расти, перед нами всё чаще встают захватывающие, но трудные этические и моральные дилеммы — быстрее, чем мы успеваем сформировать внятное мнение об их применении.
В этой статье я рассмотрю пять будущих технологий, которые вызовут серьёзные моральные дилеммы для будущего Церкви. Я расположил их в порядке того, насколько скоро мы почувствуем их влияние.
Например, последствия первых двух технологий — больших данных и искусственного интеллекта — мы уже ощущаем (и они будут экспоненциально усиливаться). И хотя последние несколько технологий могут показаться научной фантастикой, в их областях уже ведутся серьёзные исследования и достигаются ощутимые успехи.
И прежде чем мы начнём, хочу признать: делать прогнозы о будущем — особенно в отношении технологий — почти бесполезно. Посмотрите любой научно-фантастический фильм или сериал середины XX века, «предсказывающий» жизнь к началу XXI века, и приготовьтесь к смущению.
Но в то же время — кто бы в 1950 году предположил, что у нас будет доступ ко всем знаниям и развлечениям человечества через устройство, которое буквально помещается в ладони?
Скорее всего, никто.
Да здравствует всеведущий алгоритм
Бывало ли у вас, что вы говорите о чём-то с друзьями, а спустя пару часов получаете рекламу в соцсетях, связанную именно с этим?
«Мой телефон меня подслушивает», — думаете вы.
На самом деле, уверяю вас, всё куда неприятнее.
Появление интернета стало новым видом золотой лихорадки — только «золото» теперь не в земле… а вы. Или, точнее, те данные, которые вы предоставляете.
Мы все нажимаем «Я согласен» с Условиями использования при установке приложений и сервисов. Мы кликаем «Принять все cookie» на сайтах.
Каждый раз, соглашаясь делиться информацией, вы добавляете данные в свой цифровой профиль, который затем продаётся рекламодателям. Так «бесплатные» сайты (например, соцсети) зарабатывают деньги. Рекламодатели используют алгоритмы — то есть программные формулы — чтобы находить взаимосвязи между данными и предсказывать поведение человека.
Насколько мощны эти цифровые профили? По данным 2018 года (уже устаревшим), внутренние алгоритмы Facebook отслеживали 52 000 параметров на человека. А Google собирает в среднем по 2 ГБ данных на каждого пользователя (и да, вы можете скачать этот профиль).
Так что вашему телефону не нужно подслушивать разговоры — вы сами отдаёте достаточно информации, чтобы таргетированная реклама не требовала ни шпионажа, ни хитростей.
Хотим мы того или нет, но алгоритмы, которые «знают» нас лучше нас самих, постоянно наблюдают за нами и влияют на нас онлайн. Они уже изменили реальность — от распространения фейков до усиления политической поляризации.
Что это значит для Церкви?
Не стану смягчать формулировки: компании вроде Google, Apple и Meta знают о вас больше, чем любой пастор, супруг или «наставник по подотчётности».
По мере роста объёма собираемых данных, эти компании будут всё лучше удерживать внимание людей — персонализировано. В так называемой «экономике внимания» больше глаз и времени = больше прибыли.
Что Церкви делать:
По мере улучшения алгоритмов машинного обучения, Церковь будет сталкиваться с возрастающей конкуренцией со стороны соцсетей, стриминговых сервисов, онлайн-магазинов и — в недалёком будущем — виртуального «метавселенного» опыта, который лучше удовлетворяет и предугадывает потребности человека.
Если Церковь делает ставку на развлечения и зрелища, она проиграет — алгоритмы работают лучше. Но настоящая жизнь не строится на потреблении.
Значит, Церкви придётся удвоить усилия в том, чего не даст ни один алгоритм: устойчивая община, личное ученичество и миссия, превышающая рамки одного человека.
Восхождение искусственного интеллекта
В конце 2022 года ИИ стал мейнстримом.
Соцсети заполнились ИИ-сгенерированными портретами и изображениями, а ChatGPT от OpenAI стал самой громкой технологической новостью года.
В поп-культуре много сюжетов об ИИ, где машины обретают сознание, восстают и охотятся на людей. Это зрелищно, но ближайшая угроза от ИИ — это автоматизация и её последствия для рынка труда.
Раньше считалось, что «творческие профессии» защищены от ИИ. Но теперь мы знаем: нет. ChatGPT уже «убил» традиционные студенческие эссе, а ИИ-софтом уже пользуются для написания кода, музыки, детских книг (включая иллюстрации).
Многие опасения могут быть преувеличены, но как говорил Рой Амара: «Мы переоцениваем эффект технологии в краткосрочной перспективе и недооцениваем в долгосрочной». А истина об ИИ такова: он будет только улучшаться.
Что это значит для Церкви?
Будьте честны: вы бы отличили песню прославления, написанную ИИ, от стандартной продукции христианской музыкальной индустрии? Это имело бы значение?
Если бы ваш пастор в воскресенье прочитал проповедь, написанную ИИ, вы бы заметили это, если бы он не сказал?
А молитва или проповедь, сгенерированная ИИ?
Тем не менее, думаю, пасторам и священникам не стоит бояться, что ИИ «заберёт их работу». По мере того как мир всё больше полагается на ИИ и алгоритмы, ценность живых человеческих взаимодействий будет только возрастать.
Кроме того, если ИИ вызовет крупные потрясения на рынке труда, это глубоко затронет культуру, где самооценка и идентичность часто строятся на вопросе: «Чем ты занимаешься?»
Нам будут нужны духовные пастыри, способные вести нас к подлинному смыслу — тогда, когда внешний мир этот смысл отнимает.
Вот полный перевод текста на русский язык, без изменений:
Святость (расширенной) человеческой жизни
В начале XX века средняя продолжительность жизни человека составляла около 45 лет.
Сегодня, чуть более ста лет спустя, она составляет примерно 77 лет.
Однако за тот же период значительно улучшилось и качество жизни на всех этапах. Подумайте вот о чём: век назад 25 лет считались бы как минимум средним возрастом.
Увеличение продолжительности и качества жизни стало возможным благодаря накоплению научных знаний и фактов — от теории микробов и улучшения общественной санитарии до вакцин, спасших миллионы жизней, и менее «средневековых» методов лечения. Шансы прожить дольше, чем ваши родители и бабушки с дедушками, выросли экспоненциально за XX век.
А что, если это произойдёт снова?
Юваль Ной Харари в книге «Homo Deus» пишет:
«Медицина XX века была направлена на исцеление больных. Медицина XXI века всё больше направлена на «улучшение» богатых. Если некоторые улучшения станут достаточно доступными и повсеместными, чтобы ими могли пользоваться все, они станут новой нормой, которую следующее поколение медицинских технологий постарается превзойти. Следовательно, к 2070 году бедные, возможно, и будут иметь доступ к лучшему здравоохранению, чем сегодня, но разрыв между ними и богатыми, тем не менее, увеличится».
А что, если к 2100 году — а это не так далеко, как кажется — средняя продолжительность жизни увеличится на 52 % (как это было между 1900 и 2000)? Это означает, что средняя продолжительность жизни составит около 111 лет.
Каждый год мы становимся всё лучше в обнаружении и лечении опасных болезней. Мы знаем о физиологии, питании и здоровье больше, чем когда-либо. Прорывы в области редактирования генов (о чём ниже) обещают ещё большее улучшение здоровья в долгосрочной перспективе.
Если технологический прогресс и знания будут развиваться без серьёзных помех, то 111 лет к 2100 году может оказаться заниженной оценкой. В то же время некоторые учёные предупреждают, что прирост может составить лишь около 10 лет за следующий век.
Что изменится, если 70 станет новой 40?
Во-первых, увеличенная продолжительность жизни серьёзно повлияет на то, как люди будут относиться к своей карьере, отношениям и политике.
Например, брак.
Люди уже и так женятся и заводят семьи позже, чем предыдущие поколения. А если вы знаете, что, возможно, проведёте с кем-то целый век? Решите ли вы повременить с браком и «оседлой» жизнью?
Или карьера.
Имеет ли смысл определяться с профессией в подростковом возрасте, если выйти на пенсию удастся только к 80?
Если трудно представить себе такие изменения, вспомните: на протяжении большей части истории человечества пенсия — это новое явление, а вступление в брак и рождение детей в 13–14 лет было обычным делом.
Что это значит для Церкви
Принято считать, что с возрастом люди становятся религиознее. Но это может оказаться не так — особенно если речь идёт об участии в церковной жизни. Как писал Кэри Ньюхофф в своём прогнозе церковных трендов на 2023 год, поколение бэби-бумеров — это как раз те, кто, скорее всего, не вернулись в церковь после пандемии.
Много внимания уделяется тому, как церковь может завоевать сердца и умы молодёжи. Но слишком мало размышлений посвящено старшему поколению. А по мере того как продолжительность жизни будет расти, служение пожилым людям станет ещё важнее, чем сейчас.
Как показывает пример поколения бэби-бумеров, церкви нужно перестать воспринимать пожилых прихожан как должное. Да, вовлечение молодёжи важно, но не менее важно — продолжать развивать и поддерживать служение пожилым. И начинать стоит уже сейчас, потому что через 50 лет 70 лет будут восприниматься совсем иначе, чем сегодня.
Генетическая модификация — это мы
В 1999 году человеческий геном был успешно расшифрован впервые.
Это дало нам базовое понимание того, какие гены связаны с определёнными физическими и наследственными признаками. И с 1999 года наши знания в этой области выросли экспоненциально (достаточно вспомнить тесты типа 23andMe).
Добро пожаловать, CRISPR.
Вкратце, CRISPR — это мощный инструмент, с помощью которого учёные могут легко редактировать гены, изменяя последовательности ДНК и функции генов.
Представьте, что можно устранить из наследственности своей семьи наследственные болезни. Или повысить уровень интеллекта ребёнка до его рождения. Теперь вы можете оценить лишь вершину айсберга под названием CRISPR.
Генная инженерия пока ещё находится в стадии становления, но в эту сферу вливаются огромные средства. Хотя разговоры о «детях на заказ» могут казаться фантастикой, на практике дети уже были модифицированы в утробе с помощью технологии CRISPR.
Очевидно, что генная инженерия вызывает массу тревог у этиков, учёных, философов и сценаристов из Голливуда. И не зря.
Тем не менее, в ближайшие десятилетия, скорее всего, CRISPR спровоцирует рождение новой революционной области медицины, что вызовет бесконечные дебаты о границах «игры в Бога».
Это не впервые в истории. Технологии, которые сегодня кажутся обыденными, сто лет назад казались фантастикой, а пятьсот лет назад — божественными силами.
Но помимо богословских и этических споров, будут ещё и социально-экономические последствия. Если генная модификация станет дорогой, но общепринятой, появится новый тип классового неравенства: те, кто может позволить себе «улучшения», и те, кто нет.
Что это значит для Церкви
Генная модификация — вероятно, следующая великая этическая битва для Церкви. Более вероятно, чем нет, она затмит по накалу дебатов всё, что касается абортов или ЛГБТ.
Если бы вы могли сделать своего ребёнка умнее — вы бы это сделали?
Если бы вы могли сделать его сильнее? Здоровее?
Даже если вы или ваша церковь считаете это морально неприемлемым, это не остановит других людей, желающих дать своему ребёнку (и себе) лучшие шансы в жизни.
Через 50 лет будет ли генетически модифицированный человек чувствовать себя желанным в вашей церкви? А родители, решившие убрать раковый ген из ДНК своего будущего ребёнка?
Где пройдёт граница между лечением и «улучшением»?
Этот разговор о будущем — но он уже происходит, пусть и в других формах. Например: ваша церковь — это место только для тех, кто думает, выглядит и живёт как вы? Или вы готовы принять других?
Потому что, в конце концов, ребёнок с изменённым геномом — всё равно рождён по образу Божьему.
Вот полный перевод текста на русский язык, без изменений:
Присоединяйтесь к нам в облаке
С самого начала этой статьи я предупреждал вас: чем дальше по списку, тем более безумными будут казаться технологии.
Ну что ж, пристегните ремни.
Идея сохранения и загрузки человеческого сознания уже десятилетиями является основой научной фантастики — в кино и литературе. И да, звучит это как чистая спекулятивная фантастика — и, скорее всего, так оно и есть.
Но это не остановит людей от попыток достичь бессмертия с помощью технологий.
В своей книге «Homo Deus» социальный антрополог Юваль Ной Харари пишет:
«Снизив смертность от голода, болезней и насилия, теперь мы нацелимся на преодоление старости и даже самой смерти… В XXI веке человечество, вероятно, всерьёз попытается достичь бессмертия».
Если бессмертие — это цель, то цифровое сознание — это Святой Грааль.
Идея такова: при наличии достаточной ёмкости хранения, вычислительной мощности и знаний о работе разума, мы — теоретически — сможем создать копию вашего сознания и загрузить его в цифровой мир.
Но, как при строительстве собора, который смогут завершить только ваши прапраправнуки, технологические требования для этого достижения находятся на поколение (или больше) от практической реализации. Тем не менее, подготовка уже ведётся.
Что это значит для Церкви
Такое соединение технологии и биологии для улучшения человеческого опыта называют «трансгуманизмом». Пока что это движение больше философское, чем техническое, но оно набирает популярность.
В своей провокационной статье «Призрак в облаке» (Ghost in the Cloud) Меган О’Гиблин исследует поразительные сходства между будущим, которое рисуют трансгуманисты, и эсхатологией, присущей многим евангельским христианам.
Обе группы верят, что однажды человечество будет «вознесено» в некое «облако», мёртвые воскреснут, нам будут даны новые тела, и все будут жить вечно на преображённой Земле.
Главное различие между двумя взглядами — в действующем лице. Для трансгуманистов это — технологическая эволюция; для христиан — возвращение Иисуса.
Меган О’Гиблин пишет:
«Соблазн трансгуманистского движения в том, что оно обещает с помощью науки вернуть трансцендентные надежды, которые сама же наука и разрушила».
Абсолютно никто из ныне живущих — даже с возможностью продления жизни — не доживёт до момента, когда человечество столкнётся с моральной дилеммой цифрового сознания. И это ещё если это вообще когда-либо произойдёт.
Как я уже сказал выше, если вы читаете эту статью, вам в своей жизни вряд ли придётся об этом беспокоиться. Но как церковному лидеру, вам стоит задуматься над множеством интересных вопросов о границах веры и науки.
Человеческий интеллект — это невероятный дар от Бога, и его применение через науку, несомненно, улучшило наше качество жизни на Земле. Но он также дал нам возможность разрушить планету тысячу раз. И, как и сегодня, навигация по моральным дилеммам будущего потребует здорового уважения к истории, мудрости и философии.
Потому что то, что мы можем что-то сделать, ещё не значит, что мы должны это делать.
Будущее будет страннее, чем вы думаете
Посреди всех этих размышлений важно помнить: технология — это нравственно нейтральный инструмент. Истинным испытанием станет то, как человечество решит его использовать.
Технология будет развиваться независимо от того, получит ли она благословение Церкви. Так было 500 лет назад, так есть сегодня, и так будет в будущем. Будущее технологий создаст новые этические дилеммы и, возможно, потребует «обновлённого» кодекса этики.
Так или иначе, в отношении будущего ожидайте неожиданного. Пусть описанные выше мысленные эксперименты и интересны, они, скорее всего, и близко не передают того, каким станет жизнь через 30, 50, 100 или даже 500 лет.
Образ жизни будущего, вероятно, будет казаться нам таким же чуждым, как и образ жизни людей далёкого прошлого.
И если вы мне не верите, представьте, как вы пытаетесь объяснить крестьянину XV века, что такое вирусный танцевальный челлендж в TikTok.
Джо Форрест
Примечание: версия этой статьи была изначально опубликована на сайте CareyNieuwhof.com.